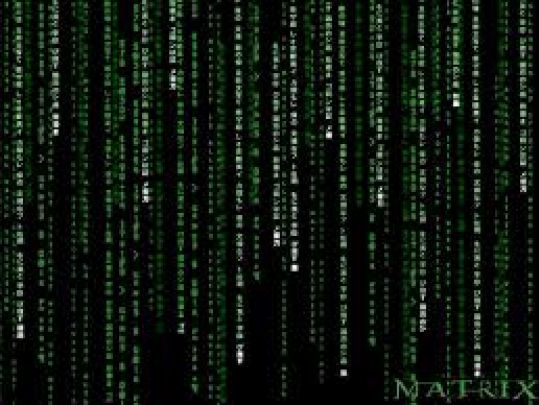Прежде чем начать наш опыт, восстановим всё то, что заложено в «Матрице».
А сейчас начнем. Вы сидите в офисе учреждения, где работаете. Перед Вами - стена, светло-кофейного цвета. На ней — ничего: ни картинки, ни гвоздика, ни цветочка, ни календарика. Голая стена, и всё. Казалось бы, что в ней интересного, какую-такую информацию может содержать эта безжизненная поверхность? Но это не так. Как любой объект в мире, эта стена может стать источником информации. То есть, обязательно содержит в себе какое-то разнообразие или, более того, противоречия. Только мы пока их не видим, и поэтому информация не возникает. Чтобы это произошло, нужно задать вопросы. Чтобы возникли вопросы, генерируются версии. Вообще, в любой деятельности, где ищут информацию, сначала выдвигают версии — продукт чистого сознания, как видим. Как ни странно, почти всё, что вы предположите, существует в мире и в том объекте, который вас интересует. В том или ином виде, в той или иной степени. Это поразительно, но пусть над этой загадкой работают философы, мы не из их числа.
Вернемся к нашей стене. Внимательно присмотревшись, вы замечаете, что в некоторых местах тон чуть светлее. Наверно, нажим на валик с краской был в этих местах слабее. Наверно, маляр не самый квалифицированный. Мы это только предполагаем. А давайте колупнем ножичком в уголке: каков слой грунтовки, а потом шпатлёвки под этой краской? Ага, что-то он тоньше обычного. А ведь стена-то неровная, это видно на глаз. Именно здесь ее нужно было бы выравнивать шпатлёвкой. Не сделали... Да и слой краски на срезе оказался не двойным, как положено, а одинарным. Значит... кто-то сэкономил и на грунтовке, и на шпатлёвке, и на краске. Вот они откуда, эти светлые «прокрасы»! Взяв нормативный расход грунтовки-шпатлёвки-краски на квадратный метр и помножив его на площадь стен, получим количество ценных, импортных отделочных материалов, «сэкономленных» строителями. И это только в одной комнате. Куда они подевались, эти материалы? Вопрос риторический...
Согласитесь, наши версии достаточно обоснованны и способны привести к получению эксклюзивной информации. Стоит только порасспрашивать, поинтерсоваться. Представьте, что это у вас в квартире (подъезде) делали такой ремонт. Вас не может не интересовать, сколько «унесли» строители. Эти сведения становятся актуальными. Один руководитель жилищно-коммунального хозяйства рассказывал мне, что именно таким образом, разрезав мягкую кровлю на крыше пятиэтажки, он установил, что крыша покрыта не двумя-тремя слоями рубероида, как положено, а всего одним. То, что она протечет, не вызывало сомнений. Но этот руководитель, заставив строителей еще раз перекрыть крышу, тем самым обезопасил себя. Потому как всё происходило в районном центре, готовящемся к «Дожинкам». А вслед за этими замечательными праздниками обычно идут проверяющие, и следует череда «посадок» за хищения в особо крупных размерах. Это у нас традиция такая. После всех «Дожинок», без исключений.
Вот к чему привело нас созерцание обычной, «безжизненной» стены в офисе!
Какие из этого выводы?
В любом, самом ничтожном, объекте существуют различия-противоречия-конфликты. Если они есть в простой стене, то представьте себе, сколько их можно увидеть в объектах на городской улице, в поведении человека, в каких-то событиях! Можно даже так сказать, радикально: на свете нет ничего такого, что не содержало бы в себе противоречий!
В принципе, ничего нового мы здесь не открываем. Человечеству, оказывается, это давно известно. За двести лет до наших дней великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель высказал нечто подобное: «Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия — критерий заблуждения». Но то, что ранее великими умами ощущалось чисто интуитивно, в середине 20-го века легло в основу теории информации.
Снова вернемся к стене, которая принесла нам столько знания. Всё началось с того, что мы решили к ней присмотреться. Не будь этого намерения, ничего бы и не возникло, никаких версий и никакой информации. Значит, всё дело еще и в том, что мы осмыслили то, что увидели. То есть, «возникновение информации (а также ее количество) зависят от умения ее видеть, от особенностей вашего сознания».
Однажды, давным-давно, снимал я телерепортаж в Бобруйске. О социальном развитии города. Приехали в детский садик объединения «Белшина». Воспитатели с радостью показывали оператору рисунки детей: вот как они красиво нарисовали первомайскую демонстрацию (дело было еще в советское время, как вы понимаете): флаги, оркестры, тети и дяди на трибуне. Цветы, шарики, голубое небо. А один рисунок воспитательница спрятала за спиной почему-то. Я потянулся и взял этот рисунок. Каляки-маляки какие-то, совсем непонятные. Воспитательница, извиняясь, сказала, что это рисунок мальчика, который... ну, отсталый, в общем. Умственно. Ну, и как же он объясняет свой рисунок? - спросил я. Да, вроде тут изображено то, что осталось после демонстрации — лопнувшие шарики, брошенные цветы, пачки из-под сигарет, бутылки, всякий мусор. Так он объясняет, этот мальчик.
Помнится, я в тот момент подумал: «А такой ли уж он умственно отсталый, этот мальчик? Просто у него — свой взгляд на мир, он видит иную сторону явлений».
Тот, кто умеет задавать молчаливые вопросы окружающей его действительности, кто спрашивает себя: «А почему все происходит (выглядит) именно так, а не иначе?» - тот и видит гораздо больше. И опять же, в культурной традиции многих народов существует понимание того, что мудрость (по-нынешнему - интеллект, IQ) состоит как раз в том, чтобы видеть как можно больше различий в том, что нас окружает, уметь сопоставлять и сравнивать эти различия. Получать из этого новое знание.
Вот вам Пушкин, знаменитое: «И опыт, сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг». А вот великий Вольтер. Герой повести «Задиг, или Судьба» «…приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь единообразие». Просто в точку, а ведь сказано за двести лет до того, как Шеннон выразил то же самое математическими формулами.
Феномен метода «дедукции» Шерлока Холмса имеет ту же природу. Именно волшебство рождения информации «ниоткуда» и восхищает читателей произведений Конан Дойля вот уже более ста лет. Как известно, у Шерлока Холмса был прототип – профессор Джозеф Белл, в лаборатории которого юный Артур Конан Дойл работал ассистентом.
Тот, кто умеет задавать «глупые», парадоксальные вопросы, тот имеет намного больше шансов на получение новой, эксклюзивной информации. Вообще, самые гениальные люди — это дети-«почемучки». Потом, с возрастом, они становятся обычными. А вот один такой, «неповзрослевший» ребенок взял, да и озадачился вопросом: «Почему упало яблоко?». Звали этого большого «ребенка» Исаак Ньютон. А другой «ребенок» в 1842 году, наблюдая гудящий паровоз, проносящийся мимо, спросил себя: почему при приближении звук гудка повышается, а при удалении — понижается? Звали его Кристиан Допплер, а перенос его наблюдения в область спектрального анализа (уже в 20-м веке) привел выводу о непрерывно расширяющейся Вселенной. Таких примеров — тысячи, от закона Архимеда до бозона Хиггса. Часто бывало и так: что-то предсказывалось сначала в теории (чистое сознание), и только спустя десятилетия доказывалось на практике. Вообще, вся история научных открытий — это история меняющихся отражений реальности в мозгу человека. Что, античные олигархи (слово-то — древнегреческое!) не могли ездить на «Бентли»? Запросто, если бы к тому времени их сознание «отразило» все те законы природы, открытие которых привело к созданию современных технологий. Если вдуматься, то все открытия происходят не в реальности, а в сознании.
Наверное, в этом состоит глубинный смысл заключения «отца кибернетики» Норберта Винера о том, что информация — это не материя и не энергия, то есть, объект нематериальный.
Наше сознание, вольно или невольно, всё время задает вопросы окружающей действительности. И та всегда «откликается». Всегда, и это тоже — закон природы. Она устроила наш мозг довольно прочно: на подсознательном уровне он регистрирует малейшие несообразности, нестыковки, противоречия, то есть, точки возникновения новой информации. Но, разнеженные цивилизацией, мы сделались ленивы и нелюбопытны (слова Пушкина). Однако подсознание выполняет свою работу: оно сообщает нам об этих противоречиях (то бишь, об информации, наверно, важной для нас). Оно «докладывает» нам об этом в преображенной, причудливо расцвеченной форме (сны) или в «беспричинных» чувствах тревоги, скрытой радости, необъяснимой надежды и пр. И только волей случая эта информация может выйти наружу, быть осознанной, помочь в принятии важных решений.
Но зачем полагаться на случай?
Во многих профессиях, связанных с получением и анализом информации, специально учат выстраивать своё внимание, применять его как инструмент получения эксклюзивных сведений там, где никто другой ничего не увидит. Таковы опытные врачи-диагносты, таковы следователи и всяческие оперативники, таковы, конечно, и журналисты, и вообще все, кто занимается поиском и анализом какой-то информации.
Нередко бывает так: с одного и того же объекта два журналиста, видевшие одно и то же, приносят совершенно разный «улов» фактов. Именно поэтому на прилавках киосков лежат газеты, разительно отличающиеся одна от другой. Отбросим пока политические причины, вынуждающие некоторых журналистов и редакции быть «слепыми». Сейчас речь идет о гораздо более сложных и важных вещах.
Вокруг нас как будто бы ничего не происходит. Но ведь мы знаем, что мир меняется ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Неподвижность существует только в сознании некоторых людей. Непрерывные изменения маскируются под обыденность и редко выходят на поверхность (сенсация). Чаще всего главное в нашей жизни происходит или незаметно, или тщательно скрывается. Понятие «невидимые новости», принятое в журналистике, обозначает именно это явление.
В своем блистательном эссе «Похвала газетам» великий чешский публицист и писатель Карел Чапек, как всегда, афористично и емко выразил суть этого сложного явления: «Мы настолько привыкли к газетам, что перестали воспринимать их как ежедневное чудо. Между тем чудо уже в том, что газеты выходят каждое утро, даже если накануне ничего не случилось; но это чудо – редакционная тайна…».
Если мы точно видим основные противоречия нашего общества, то верно истолковываем и предугадываем вектор развития событий. И даже сможем, в какой-то степени, предугадывать события. Девиз итальянской газеты «Репубблика»: «Нет событий без проблем, нет проблем без событий» - учит именно этому.
Может, от такой, вольно-расширительной трактовки теории информации отцы ее в гробах переворачиваются. Но нам есть что ответить их теням: обращения к основам, которые они заложили, помогает понять природу медийной деятельности, повысить ее наукоёмкость. Конечно, мы только начинаем, и нам много чего еще придется вспомнить: и теорию вероятностей, и теорию коммуникации, и социологию, и социальную психологию, и пр. и пр. И всё это применить к практической деятельности медиа.
Но главными на этот момент для нас являются вот эти два основные тезиса теории информации:
-
В любом объекте существуют (по степени радикальности) различия-противоречия-конфликты.
-
Отражение этих различий (противоречий) в нашем сознании есть процесс возникновения информации.
О третьей составляющей - в следующий раз.